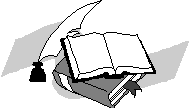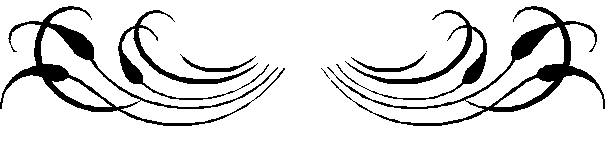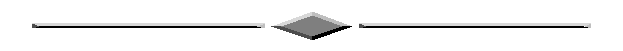|
Рефератыполиграфия и этнографии москвоведению и спорту языку |
Реферат: Февральская Буржуазно-Демократическая Революция:верность правительству. Отсюда солдат уже не посылали в заставы, а наглухо запирали за воротами, перед которыми стояли сильные караулы. А совсем рядом рабочие открыто праздновали свою победу. Началась ловля полицейских, многие из которых спешно переодевались в гражданское платье и пытались скрыться. С наступлением темноты усилилась случайная стрельба. Кое-где воздух разрывали пулеметные очереди. Это полицейские пытались устраивать засады. В половине шестого вечера солдаты привели в Таврический дворец бывшего министра юстиции Щегловитова, в это время являвшегося председателем Государственного совета. Он был передан в руки Родзянко. Так председатель низшей палаты российского “парламента” вынужден был взять под арест председателя верхней палаты. Щегловитов, “Ванька-Каин”, как звали его за жестокость в народе, стал первым узником Таврического дворца. Однако далеко не последним. Скоро сюда стали приводить министров, генералов, чиновников, полицейских. Так вопреки воле депутатов Государственной Думы Таврический превращался в штаб настоящей народной революции. Генерал Хабалов телеграфировал в ставку в 12 часов, что воинские части гарнизона отказываются “выходить против бунтующих”. Но военный министр М. А. Беляев в своей телеграмме, отправленной в 13 часов 15 минут, представлял дело так, что волнениями охвачены только некоторые части и что он подавит их “беспощадными мерами”. Князь Голицын забрал назад свою отставку, как только к нему на квартиру приехали военный министр Беляев и Хабалов. Правда, Хабалов был уже сломлен и подавлен событиями и, по свидетельствам очевидцев, находился в тяжелом моральном состоянии. Беляев вынужден был фактически назначить ему замену в лице генерала М. К. Занкевича. До четырех часов дня отсюда Голицын, Беляев и Занкевич отдавали по телефону приказы полиции и войскам. Но связь становилась еще более ненадежной. Решено было в 17 часов собраться всем в Мариинском дворце. По пути Беляев заехал в градоначальство на Гороховой, 2. Военные и полицейские начальники, собравшиеся там, были в растерянности. Особое беспокойство вызвало сообщение о том, что посланный еще Хабаловым довольно большой отряд гвардейской пехоты, кавалерии и артиллерии, численностью до 2 тысяч человек, сумел дойти только до Литейного проспекта. А там завяз в плотной людской массе и вскоре буквально растаял. Командир его, полковник Преображенского полка А. П. Кутепов чудом добрался до градоначальства. Сюда же прибыл и командир гвардейского флотского экипажа великий князь Кирилл Владимирович. Он посоветовал Беляеву для “успокоения” немедленно сообщить об отставке министра внутренних дел Протопопова. Прибыв в Мариинский дворец, Беляев незамедлительно поставил в известность об этом министров. Прямо в присутствии Протопопова, которого многие из министров считали виновным во всем, что происходило сегодня в столице, решили его сменить – причиной выставить его внезапную “болезнь”. По приказу князя Голицына генерал Тяжельников напечатал извещение о болезни Протопопова и о замене его заместителем министра – “товарищем”, как тогда говорили. Протопопов протестовал, но вынужден был смириться. Он поднялся и ушел, громко бормоча: “Я застрелюсь, господа! Я сейчас же застрелюсь!” Никто не обращал больше на него внимания. Протопопов уехал, намереваясь просить поддержки в Царском Селе у императрицы. В 18 часов из Мариинского дворца за подписью Голицына пошла телеграмма в Могилев Николаю II ней содержалась просьба объявить Петроград на осадном положении, назначить во главе “оставшихся верными войск” популярного генерала из действующей армии. Правительство признавалось, что оно не в силах справиться с создавшимся положением и предлагает самораспуститься, с тем, чтобы царь назначил новым председателем “лицо, пользующееся общим довернем”, и составил “ответственное министерство”. Таков был бесславный конец царского правительства. В 19 часов 22 минуты Беляев телеграфировал начальнику штаба верховного главнокомандующего генералу Алексееву, что положение “весьма серьезное”, военный мятеж оставшимися верными частями “погасить пока не удается”, многие из них присоединяются к мятежникам. Военный министр спешно просил прислать с фронта надежные части, притом в достаточном количестве. В это время в Думе решено было направить делегацию комитета в составе Родзянко, Некрасова, Савича и Дмитрюкова для переговоров с князем Голицыным и великим князем Михаилом Александровичем. Последний, намечался и гучковскими заговорщиками, и руководством Прогрессивного блока Государственной думы в регенты при малолетнем Алексее Николаевиче в случае удачи переворота в любой форме. Особенно прочные контакты имел младший брат Николая II с председателем Думы Родзянко. Собрались в доме военного министра Беляева на Мойке, 67. Там была и делегация, и князь Голицын, приехавший из расположенного неподалеку Мариинского дворца, и великий князь. Представители Думы требовали, чтобы Михаил Александрович немедленно объявил себя диктатором в Петрограде (эту идею высказывали на “частном совещании” Думы и Некрасов и Савич), уволил бы своей властью старый совет министров и объявил бы о создании “ответственного министерства”. Голицын согласен был уступить свое место другому, но требовал, чтобы кем-нибудь из представителей верховной власти было сделано соответствующее распоряжение, чтобы не получилось, что правительство ушло в отставку “самовольно”. Если бы это сделал Михаил Александрович, то Голицын не возражал бы. Но Михаил долго упирался. Он боялся своего старшего брата. И вполне основательно. Он хорошо помнил, как тот несколько лет не признавал его морганатического брака. Мягкий характер Михаила делал для него крайне затруднительным принятие любого определенного решения, тем более так тесно связанного с судьбами всей страны. Только в девятом часу вечера он согласился. Отправлена была по прямому проводу телеграмма в ставку от имени Михаила Александровича, в которой тот просил брата пойти навстречу Думе: уволить нынешних министров и назначить новым премьер-министром князя Г. Е. Львова. Николай II не пожелал подойти к аппарату. Через генерала Алексеева он передал о своем отказе принять предложения Думы. Голицын же до получения ответа на собственную телеграмму с просьбой об отставке также отказывался формально объявлять об уходе правительства. К 21 часу делегация комитета ни с чем вернулась в Таврический дворец. Пока лидеры Прогрессивного блока занимались этим политическим торгом с представителями царской власти, подлинные руководители рабочих – большевики решили публично заявить о нуждах революционных масс, тем более что Временный исполнительный комитет Петроградского Совета в своем первом обращении к массам ничего не сказал о политической цели движения. Еще днем 27 февраля большевики Выборгского района составили проект обращения к народу и передали его представителям Русского бюро ЦК РСДРП(б). А. Г. Шляпников и В. М. Молотов отредактировали текст и утвердили его в качестве манифеста ЦК РСДРП “Ко всем гражданам России”. “Граждане! – говорилось в манифесте, который был отдан в печать поздно вечером 27 февраля и вышел в свет утром 28-го. – Твердыни русского царизма пали. Благоденствие царской шайки, построенное на костях народа, рухнуло. Столица в руках восставшего народа. Части революционных войск стали на сторону восставших. Революционный пролетариат и революционная армия должны спасти страну от окончательной гибели и краха, который приготовило царское правительство. Громадными усилиями, кровью и жизнями русский народ стряхнул с себя вековое рабство. Задача рабочего класса и революционной армии – создать Временное революционное правительство, которое должно встать во главе нового нарождающегося республиканского строя”. В числе “задач такого правительства манифест говорил о временных законах, защищавших все права и вольности народа, о конфискации помещичьих земель, введении восьмичасового рабочего дня, созыве Учредительного собрания”. Необходимо было обеспечить продовольствием население и армию, подавить всякие противонародные контрреволюционные замыслы “гидры реакции”. Немедленной и неотложной задачей Временного революционного правительства должно было, по мнению большевиков, стать установление связи с пролетариатом воюющих стран для немедленного прекращения войны. Манифест обращался к рабочим фабрик и заводов, а также к восставшим войскам с призывом немедленно выбрать “своих представителей во Временное революционное правительство, которое должно быть создано под охраной восставшего революционного народа и армии”. Манифест ЦК РСДРП призывал к открытой борьбе с царской властью и ее приспешниками, к необходимости “брать в свои руки дело свободы”, по городам и селам создавать “правительство революционного народа”. Создавая этот манифест, большевики использовали текст листовки Выборгского районного комитета, призывавшей создать Совет депутатов под защитой войска. Но, учитывая, что партийным большевистским лозунгом являлось создание Временного революционного правительства как органа революционно-демократической диктатуры пролетариата и крестьянства, которую надо создать в результате победоносного восстания против царизма, авторы манифеста употребили Совет и Временное революционное правительство как синонимы. Об этом же говорит и призыв создавать “правительство революционного парода” по городам и селам всей страны. Подобное отождествление революционных правительств с Советами депутатов часто встречалось и в агитационной практике большевиков в годы первой русской революции. Наверное, поэтому Совет прямо не упоминался, хотя, по сути дела, именно он и имелся в виду. Интересно, что в мандатах некоторых депутатов Петроградского Совета говорилось, что они выбраны “во Временное революционное правительство”. Издание большевистского манифеста явилось важным событием на пути сплочения революционного пролетариата на республиканской и антивоенной программе. Огонь восстания еще бушевал во многих районах Петрограда, но центр политической жизни прочно переместился в Таврический дворец. Его коридоры по- прежнему были заполнены многими тысячами солдат и рабочих с оружием. Представители революционных масс чувствовали себя здесь как дома. Они курили, сидели и лежали прямо на полу. Между ними осторожно сновали депутаты Думы, совершенно ошарашенные событиями. В столовой Государственной думы быстро организовали питательный пункт для солдат, поскольку большинство их все еще опасались возвращаться к себе в казармы и целый день ничего не ели. Курсистки ряда высших женских заведений Петрограда варили обед, подавали и убирали тарелки, мыли посуду. По коридорам плавал синий дым махорки. После 19 часов в Таврическом стали собираться вновь набранные депутаты Петроградского Совета, однако прибыли еще не все, и по просьбе большевиков открытие заседания было отсрочено до 21 часа. Но и после начала заседания прибывали новые его участники. Всего было около 100 человек, из них 40–50 депутатов, избранных от заводов и фабрик, а также представители партийных организаций и солдатские депутаты. Председателем Совета был избран меньшевик Чхеидзе. Его имя часто встречалось во всех газетных отчетах о заседаниях Государственной думы, и как представитель и председатель фракции РСДРП в Думе он и был предложен в председатели Петроградского Совета. Заместителями председателя были избраны известный также думский меньшевистский деятель М. И. Скобелев и председатель фракции трудовиков Керенский. Последний, правда, вскоре заявил, что он принадлежит и всегда принадлежал к партии эсеров. Кроме них, было избрано еще 12 членов Исполнительного комитета Совета, среди которых было два большевика, члена Русского бюро ЦК РСДРП (б) – А. Г. Шляпников и П. А, Залуцкий. Третий член бюро, В. М. Молотов, также присутствовал на этом заседании, но в состав Исполкома не был избран. Эсеров в первом выборном Исполкоме Совета было двое – кроме Керенского, еще левый эсер П. Александрович, меньшевиков – шесть и пять внефракционных социал- демократов. Последние были ближе к меньшевикам, хотя по отношению к войне часто объявляли себя интернационалистами. Так, уже в первом выборном Исполнительном комитете Петроградского Совета, как и во временном, определенно проявилось засилье меньшевиков, что не могло не отразиться как на политической позиции Совета, так и на его практической деятельности. Исполнительный комитет Совета в первую очередь рассмотрел продовольственный вопрос, который либералы и меньшевики считали главной причинной волнений 23 февраля и всех последующих событий. Была организована продовольственная комиссия, которая должна была совместно с Временным комитетом Государственной думы выработать меры по бесперебойному снабжению хлебом и другими продуктами армии и населения Петрограда. Решено было конфисковать запасы муки и снабдить ею пекарни. Заседание образовало также военную комиссию для руководства дальнейшими выступлениями гарнизона, литературную – для издания собственных “Известий” Совета, листков и воззваний, выбрало десять комиссаров для организации районных отделений Петроградского Совета. Острые дискуссии разгорелись по поводу вхождения представителей исполнительного комитета Совета во Временный комитет Государственной думы. – Товарищи! – говорил от имени большевиков Шляпников. – Мы ни в коем случае не должны посылать туда своих представителей! Там окопались либеральные буржуа, которые только и делали, что всю войну предавали интересы рабочего класса. Они позорно терпели арест наших депутатов в четырнадцатом году и суд над ними! Неужели вы забыли, как всего две недели назад Милюков вместе с царским сатрапом Хабаловым просил вас не ходить к Думе, чтобы не мешать сговору Прогрессивного блока с царскими опричниками. Собрание встретило речь Шляпникова аплодисментами. Но тут встал Чхеидзе. С мягким кавказским акцентом он стал убеждать собравшихся не рвать контактов с думским комитетом: – В том, что говорил здесь товарищ большевик, много правды. И мы не любим буржуазных либералов. Вы все помните, как на протяжении всей войны мы критиковали и кадетов, и октябристов, и бюро Прогрессивного блока. Но задача наша, товарищи, сейчас еще не в том, чтобы лишить власти буржуев. У них и власти-то еще нет! Нет, наша задача в том, чтобы показать кузькину мать Николаю Кровавому (бурные аплодисменты всего зала). А в этой борьбе и либералы могут пригодиться. Мы еще успеем с ними побороться, когда наша славная революция снимет все препоны с развития капитализма в России. Вот тогда мы и для нового вина найдем новые мехи. Отказываться же от совместных действий сейчас? Это неразумно! – Да, товарищи! – с пафосом начал Керенский, как бы продолжая речь Чхеидзе. – Мы боролись в Думе с реакционерами в мрачные годы старого режима. Неужели же вы думаете, что мы не справимся с ними сейчас, когда уже близко царство свободы? Мы будем там револьвером, приставленным к виску российской буржуазии! Вашими верными стражами, товарищи! К тому же раскрою вам один секрет, мы уже включены туда постановлением совета старейшин Государственной думы, которое обязательно для нас как членов действующего еще учреждения. Но мы с товарищем Чхеидзе не сочли возможным принять это постановление, не посоветовавшись с вами, без вашего одобрения. Доверяете ли вы нам, товарищи? – Доверяем, доверяем! Привет борцам за свободу! Долой царя! Ура-а-а-а! – неслись с разных концов вала одобрительные крики и возгласы. Всего на этом заседании присутствовало около 25 большевиков и сочувствующих им, поэтому меньшевистскому большинству только что сформированного Исполкома удалось добиться принятия решения об одобрении вхождения Чхеидзе и Керенского в состав Временного комитета Государственной думы. Собрание Совета кончилось уже после полуночи. Несмотря на многие недостатки, первое общее собрание Петроградского Совета явилось крупнейшим успехом восстания 27 февраля 1917 года. Создан был политический и организационный центр рабочего движения, получили политическое и организационное руководство солдаты, восставшие стихийно. И лидеры буржуазной оппозиции, вернувшиеся после бесплодных переговоров с Михаилом Александровичем с князем Голицыным, столкнулись с фактом организации сил революционной демократии. В кабинете председателя Думы собрались все члены Временного комитета. Началась резкая дискуссия, затянувшаяся до 1–2 часов ночи из 28 февраля. Вопрос, что делать Думе в условиях проявившегося успеха вооруженного восстания против старой власти, вставал со всей остротой. Спорили с ожесточением, укоряли друг друга, сводили старые счеты. Но слегка прикрытые личные расчеты Родзянко стать главой правительства, несмотря на согласованное решение бюро Прогрессивного блока проводить на эту должность главу Всероссийского земского союза князя Г. Е. Львова, трезвый ум Милюкова, больше всего опасавшегося царских репрессий против Думы как учреждения, – все это неизменно возвращало острейшие перепалки к исходному вопросу: что делать? Львов рассуждал так: – Господа, я все сам видел. И как окружной суд подожгли, и как Носарь на тумбу залезал, все! И вот сейчас только что с улицы. Волнение, скажу вам, в каждой части. Думаю, взбунтовалось уже тысяч 50–60! Но все равно, это же не революция! Это ж солдатский бунт. И только! Где офицеры, где штаб? Надо что- то делать. Протопопов, говорят, к императрице поехал! Они там с царем телеграммами обмениваются. Завтра пришлют сюда десять тысяч георгиевских кавалеров! Они всю эту солдатню мигом к ногтю. Тут и нам достанется. А какая резня пойдет в городе? Как хотите, но этого допустить нельзя. И медлить нельзя. Сегодня у нас в Питере генералов сюда тащат – видели, уже трое сидят в Полуциркульном зале под арестом! Солдатня же тешится. А как завтра на фронт все это перекинется? А? Мятеж там, офицеров бьют, фронт открыт. И не мы в Берлине, а Вильгельм свой флаг над Зимним дворцом водрузит! Позорище-то какое для России. Ввек не отмоешься! А кто в бюджетной-то комиссии заседает сейчас? Совет! А что тайное Совет – одни пораженцы и полпораженцы. Они нам всю войну прекратят. И не только, извините, Павел Николаевич, Царьграда не видать, но и Польша с Галицией плакали. Надо сделать так, чтобы вся эта революция пошла под лозунгом войны, а не мира! А для этого один выход. Не бояться надо, а сейчас же брать власть! Многие считали Львова человеком взбалмошным и несерьезным. Поэтому, как только он закончил свою речь, Родзянко устало макнул рукой: – Что вы несете, Владимир Николаевич! Если для солдата отказ от присяги бунт, то и для нас – бунт! Вы что, забыли, что подписывали торжественное обещание члена Государственной думы, что будете верноподданно служить государю императору? Многие из нас и в армии служили, присягали. Я присягал, господа! И не желаю присягу нарушать, не желаю бунтовать. – Конечно, Михаил Владимирович, все мы понимаем ваше положение, – сказал Милюков, – Ведь телеграммы государю вы посылали? Посылали. Их солдатам здесь в кабинете читали? Читали. Поставленному государем председателю совета министров уйти в отставку добровольно предлагали? Предлагали. Про нас я уже не говорю. И вы, Николай Виссарионович, и еще кое-кто сделали уже многое такое, за что не только в Сибирь, но и на виселицу попасть можно. Поэтому, дорогой Михаил Владимирович, Дума уже замешана в это дело, и достаточно глубоко! Я позволю себе сказать, что если движение это – мне как-то не хочется называть его революцией, уж очень оно подозрительно – будет подавлено, то с нами разделаются все равно, как справедливо заметил уважаемый Владимир Николаевич. Так что аргумент насчет присяги я бы не выдвигал. Она уже нарушена... А вот соображения насчет войны и пораженческой агитации, которая может сейчас начаться, их мы должны иметь в виду в первую очередь! В это время в кабинет вошел полковник Б. А. Энгельгардт. Он уже давно вышел в отставку, состоял в кадетской фракции Думы, но во время войны Энгельгардт, которому сейчас было 40 лет, вернулся в свой Преображенский полк и сейчас руководил занятиями в запасном батальоне, совмещая службу и деятельность депутата Государственной думы. – Господа! – громко заговорил полковник. – Я потрясен. Я пришел, чтобы сказать вам, что весь запасный батальон моего родного, Преображенского полка перешел на сторону бунтовщиков, то есть, правильнее сказать, на сторону революции. И он сел, не в силах вымолвить больше ни слова. Вслед за ним вошел секретарь Думы Иван Иванович Дмитрюков и подтвердил, что пять тысяч преображенцев строем и с оружием прибыли в Таврический дворец и заявили, что будут охранять Государственную думу от любого покушения. – Это меняет дело, – тихо, но внятно произнес Милюков. – Михаил Владимирович, я разрешу ваши сомнения. Если преображенцы примкнули к движению, то, пожалуй, это уже не бунт. А если вам не нравится слово “революция”, то назовем это “переворотом”. Так что берите власть, Михаил Владимирович! Правительства все равно нет. Не возьмем мы, не ровен час, возьмут другие, из комнаты бюджетной комиссии. – Я все же колеблюсь, – отвечал Родзянко. – Да что вы, Михаил Владимирович, – стал горячо убеждать его и Шульгин. – Предположим, революция будет подавлена царем, ну наш Временный комитет и сдаст власть новому правительству, которое государь назначит. А если революция разгорится дальше, а мы все власть брать не будем, то, право, Совет может свое правительство назначить. Вспомните пятый год, вспомните, как они все нас пугали своим Временным революционным правительством. Так что берите, берите власть, Михаил Владимирович! – Ладно! – сказал басом Родзянко. – Только, господа, я требую от вас всех беспрекословного подчинения! Так около полуночи и Временный комитет Государственной думы решил проявить активность и срочно заменить собой фактически уже свергнутое восстанием правительство князя Голицына. Второй центр заработал в том же Таврическом дворце. Оформилось двоевластие. ЗАКЛЮЧЕНИЕ Эти события вывели на политическую арену правых, левых, радикалов, центристов. Все считали, что они правы, находились друг с другом в острой борьбе. Монархия Романовых правила страной 300 лет. Рухнула она в течение недели. Едва ли не на другой день, ошеломленные молниеносностью и легкостью исчезновения с лица земли режима, который еще так недавно казался несокрушимым, участники и свидетели событий стали искать причины, объясняющие этот феномен. Быстрее всех ответ нашел Милюков: революция, утверждал он, произошла потому, что народ хотел довести войну до победы, а Николай II, правительство, “верхи” оказались главным препятствием на пути к достижению этой великой цели. Назначение этой версии лежит на поверхности: она должна была работать на лозунг доведения войны до победы. Милюков-историк здесь был полностью оттеснен Милюковым-политиком, одержимым идеей завершения “исторической” задачи России – овладения Константинополем и проливами. Эта теория была хороша еще тем, что одним росчерком пера превращала контрреволюционную Думу в руководителя совершившейся революции. Даже на склоне жизни, когда настаивать на этой идее в свете уже имевшейся огромной литературы и документов по Февральской революции было просто нелепо, Милюков с упорством Катона продолжал на ней настаивать. “Мы (?) знали,- писал он, что старое правительство было свергнуто ввиду его неспособности довести войну “до победного конца”. Именно эта неспособность обеспечила содействие вождей армии при совершении переворота членами Государственной думы”(1). Однако это “мы” было весьма условным даже в кадетской среде. Барон Нольде писал: “Царствовала концепция Милюкова: революция была сделана, чтобы успешно завершить войну,– один из наивнейших самообманов этой богатой всякими фикциями эпохи”. К числу не поддавшихся этому самообману он причисляет также Набокова, Аджемова и Винавера, которые вместе с ним “в недрах кадетского Центрального комитета” пытались доказать Милюкову иллюзорность его концепции, но “столкнулись с самым упорным сопротивлением” лидера партии и его сторонников(2). Говоря о кадетском самообмане, Нольде имел в виду подлинное настроение народа – его нежелание продолжать чуждую ему войну. Но с научной точки зрения самообман в концепции Милюкова состоял в том, что она, во-первых, была идеалистической, а во-вторых, полностью отрицала совершившуюся революцию как конечный итог всего предшествующего многолетнего развития страны. Согласно Милюкову, все дело было в негодных людях, окажись на их месте другие, годные, и никакой революции не было бы. О том, что сама эта негодность была не случайной, а закономерной, итогом длительных процессов, происходивших в недрах самодержавного строя, Милюков, изменяя себе как историку, вопроса не ставил. Даже Маклаков, осмысливая прошедшее, делал шаг вперед по сравнению с лидером кадетской партии. Размышляя над причинами несостоявшегося дворцового переворота, который, “может быть (!) мог спасти положение”, Маклаков, говоря о заговорщиках и их колебаниях, указывал на одну из причин колебаний, которая “ясна”. Причина эта состояла в том, что “династия была обречена” даже в случае успешности переворота. “При Павле 1-ом, – пояснял он, – было ясно, к кому после него перейдет русский престол”. Но у Николая II фактически не было пригодных преемников. Для этой роли не годился ни “маленький, больной” племянник, ни Михаил, ни другие претенденты, поэтому “спасти династию было трудно даже переворотом”(3). Это уже был в какой-то мере исторический подход, хотя причину гибели монархии Маклаков усматривал лишь в физическом, умственном и моральном вырождении династии, а не в вырождении, изжитости самого режима. Такую попытку – объяснить причину гибели режима его собственной природой – сделал Вишняк. Соглашаясь с мыслью, что “личность последнего русского самодержца в значительной мере определила судьбы русского самодержавия”, он, однако, считал эту причину не основной. “Главная причина крушения этого строя не здесь, не во “внутренних органических” свойствах самодержца, – писал он. – Главное – в неограниченности той “формальной власти” которую представляет всякий самодержавный строй”. Конечный его вывод гласил: “Абсолютизм гибнет, но не сдается, не может приспособиться к окружающим условиям, гармоническое развитие вровень с веком и требованиями жизни противоречит природе и смыслу абсолютизма. Абсолютизм отстает от темпа жизни, утрачивает способность учитывать вес и значение событий. Иллюстрация к тому – последние годы и месяцы, дни и даже часы русского абсолютизма”(4). Вишняк по сравнению с либералами сделал, безусловно, шаг вперед в поисках правильного ответа на вопрос о причинах гибели российского абсолютизма. Он был совершенно прав, указывая, что его надо искать в самодержавии, а не в самодержце. Но верно определив место поиска, Вишняк тут же пошел по ложному пути. Его принципиальная ошибка, очень типичная для вульгарного демократа (Вишняк был эсером), состояла в том, что он абсолютизировал абсолютизм, т. е. оказался неспособным подойти к нему с позиций диалектики. Абсолютизм вообще, а не только русский, – такая государственная система, что не поддается модификации, остается всегда неизменной и поэтому погибает, таков его принципиальный, теоретический вывод. История показывает, что этот вывод неверен ни в фактическом, ни в теоретическом отношении. Абсолютизм действительно жесткая система, но вместе с тем он очень гибок и приспособляем к изменяющимся условиям, причем настолько, что может полностью вписаться, модернизировав себя, в совершенно другой, по природе чуждый социально-экономический порядок, каким был для него капитализм. В качестве наиболее убедительных примеров такого успешного приспособления к принципиально иной среде можно назвать монархии Германии и Японии. Да и в отношении русского абсолютизма утверждение о его неспособности учитывать, перемены не соответствует действительности. Достаточно сослаться на два известных шага в направлении к буржуазной монархии, сделанные им в 1861 и 1905 гг. В. И. Ленин не только часто и настойчиво указывал на эти два шага, но, дал им и теоретическое объяснение. Говоря о монархии, способной ужиться со всеобщим избирательным правом, Ленин имел в виду кайзеровскую Германию. Монархия, указывал он, как политическая надстройка на столько гибка и приспособляема, что может очень долго сохранять свою власть целиком или в значительной части, усевшись на чуждый ей в принципе буржуазный базис. Таким образом, точка зрения Ленина по вопросу приспособляемости абсолютизма была прямо противоположна точке зрения Вишняка. Однако, переходя конкретно к России, Ленин считал, что русский абсолютизм такой гибкостью, как скажем, германский, не обладал. “Но,– писал он далее,– из этих бесспорных абстрактных соображений делать выводы относительно конкретной русской монархии XX века — значит издеваться над требованиями исторической критики и изменять делу демократии”(5). В чем причины того, что русский абсолютизм, несмотря на начатую им уже с Петра I и продолжавшуюся весь ХIХ и начало XХ в. эволюцию в сторону европеизации, с такой потрясающей очевидностью подтвердившемуся последним трехлетием существования царизма, не был способен довести ее до конца, т. е. до превращения себя в буржуазную монархию по прусскому образцу? Усматривали эту невозможность в самой истории царской монархии, в особенностях ее исторического развития по сравнению с тем же германским абсолютизмом. В чем же состояли эти особенности, вернее, причины, обусловившие указанную неспособность российского абсолютизма, вернувшуюся для него столь бесславным концом? Как это ни парадоксально на первый взгляд, основная причина крайней реакционности, окаменелости и слабости царизма в последний период его существования, прежде всего, объясняется, если, пользуясь выражением Ленина, строго следовать исторической критике, его повышенной прочностью и относительно более длительной прогрессивностью по сравнению с аналогичными западноевропейскими режимами в пору его становления и расцвета. Образно выражаясь, за избыток здоровья и крепости в молодости, тратившихся неумеренно и бесконтрольно, царизм в старости расплатился параличом и гниением. В силу целого комплекса сложно взаимодействующих исторических, географических, внешнеполитических и других факторов, определявших ход исторического развития России, сильная, беспощадная и целеустремленная абсолютная монархия явилась одним из главных компонентов исторического и государственного выживания и развития. Монархия стала основной централизующей силой и символом объединения разноязычных и находящихся на разных уровнях развития народов на бесконечно огромной территории. Она стала также щитом и мечом в борьбе с многочисленными внешними врагами, в которой успех или поражение были равносильны соответственно жизни или смерти России как государства. На фоне таких задач, решавшихся в крайне тяжелых и неблагоприятных условиях, начиная от последствий татарского завоевания и интервенции начала ХVII в. и кончая суровым климатом и редкостью населения, создалась громадная, по выражению В. И. Ленина, относительная самостоятельность российского абсолютизма по отношению ко всем классам и слоям населения, включая и собственный опорный класс – дворянство, воплощением и инструментом которой явились бюрократия и армия. Что же касается русской буржуазии, то она в силу своей слабости и контрреволюционности была совершенно не в состоянии осуществить свои претензии к царизму – борьбу подменяла словом, выбор между реакцией и народом всегда делала в пользу первой. Казалось, такое положение должно было радовать российский абсолютизм. Но в конечном итоге слабость русской буржуазии сослужила ему плохую службу, стала дополнительным и очень серьезным источником собственной слабости. Радость эта была бы уместна лишь в том случае, если бы народ “безмолвствовал”. Но он не только не молчал, но совершил в начале века грандиозную антиабсолютистскую революцию, которая, несмотря на поражение, расшатала и резко ослабила царизм. На смену прежней распыленности пришел союз многомиллионного крестьянства с рабочим классом, который, как было уже очевидно, стал постоянно действующим фактором русской истории. В таких условиях, отличительной чертой которых даже после подавления революции было нарастание нового революционного кризиса, царизму позарез требовался надежный сильный союзник в лице буржуазии, чтобы не остаться с глазу на глаз с революционным народом. Но если с надежностью, в смысле верности, контрреволюции дело обстояло вполне благополучно, то по части силы, влияния на народ все было наоборот. В послереволюционный период царизм был вынужден пойти на союз с буржуазией в общенациональном масштабе, который он оформил в виде третьеиюньской Думы, создав так называемую третьеиюньскую политическую систему. Смысл этой системы состоял в том, что Дума имела не одно, а два большинства, консервативное и либеральное, которые попеременно образовывали октябристский “центр”, действовавший по принципу качающегося маятника. Объективная возможность такого попеременного голосования обеспечивалась помещичье-буржуазным составом октябристской фракции. Поскольку помещичий, консервативный элемент в ней преобладал, хозяином в Думе оставалось правительство, целью которого было при помощи такого союза попытаться решить объективные задачи революции “сверху”, контрреволюционным путем, но с таким расчетом, чтобы сохранить политическое всевластие за царизмом, предоставив взамен своему союзнику куцые, мелкие “реформы”, не затрагивающие основ власти самодержавия. Такая система политической власти, основанная на лавировании между классами, в данном случае между дворянином-помещиком и буржуазией, получила название бонапартизма. Последний создает иллюзию независимости власти от какого-либо класса, в том числе и от господствующего, хотя эта независимость на деле более или менее относительна, ее исключительной прочности. В действительности же бонапартистская власть слабее, чем прежняя власть классического абсолютизма, потому что она теряет целиком или частично свою прежнюю постоянную патриархальную и феодальную опору и вынуждена попеременно опираться не только на разные классы, но и на отдельные слои и группы этих классов, эквилибрировать между ними, пускаться в открытую и рискованную демагогию, что в критической ситуации может обернуться быстрым и на первый взгляд даже малопонятным и необоснованным крахом. Подчеркнув, что предпринятый царизмом после революции 1905–1907 гг. второй шаг по пути превращения в буржуазную монархию “осложняется перениманием методов бонапартизма”, Ленин писал: “Обывателю не легче от того, если он узнает, что бьют его не только по-старому, но и по-новому. Но прочность давящего обывателя режима, условия развития и разложения этого режима, способность этого режима к быстрому фиаско – все это в сильной степени зависит от того, имеем ли мы перед собой более или менее явные, открытые, прочные, прямые формы господства определенных классов или различные опосредствованные, неустойчивые формы господства. Господство классов устраняется труднее, чем пронизанные обветшалым духом старины, неустойчивые, поддерживаемые подобранными ‘избирателями’ формы надстройки”(6). Свою несостоятельность, приведшую ее к тяжелому кризису, третьеиюньская бонапартистская система доказала уже в предвоенные годы. Ее основной отрицательный итог состоял в том, что надуманные “реформы” даны не были, причиной этому, как показано автором в его предшествующих работах, посвященных изучению третьеиюньской монархии, явилось не нежелание царизма их дать в принципе борьба между ним и буржуазной оппозицией шла лишь по вопросу о мере, форме и сроках этих “реформ”, поскольку они были таковы, что не затрагивали его политического всевластия, а то, что их оказалось невозможным дать. Реформы, как известно, могут в зависимости от условий служить орудием против революции и, наоборот, способствовать усилению революционного брожения. Действительность показала, что, несмотря на царящую в стране реакцию, “реформы”, будь они даны, способствовали бы не столыпинскому “успокоению”, а углублению революционного кризиса, продолжавшегося, хотя и в скрытых формах, и в послереволюционные годы. Будь буржуазия сильнее, имей либерализм и его прямое продолжение – ликвидаторство, влияние в рабочем классе, в среде городской демократии, в массах, можно было бы пойти на риск “реформ”. Но поскольку дело обстояло как раз наоборот. Риска не последовало. Таким образом, одна из коренных причин, обусловивших провал бисмарковского “обновления” России для предотвращения новой революции, заключалась в слабости русской буржуазии во всех ее параметрах, в ее оторванности от народа, в том, что ее партии и организации, конечной целью которых было воздействие на народ, уже тогда были генералами без армии. Неизбежным следствием провала курса “реформ” стал глубокий кризис третьеиюньской системы как союза царизма с помещиками и верхами торгово- промышленной буржуазии, ради которого она и была создана. Конкретным выражением этого кризиса явились полный паралич Думы по части “реформаторского” законодательства, провал на этой основе октябристского “центра”, выразившийся сперва в тяжком поражении на выборах в IV Думу, а затем в расколе октябристской фракции на три части(7); резкое обострение недовольства друг другом партнеров по контрреволюции. К кануну войны раздражение в помещичье-буржуазной среде по отношению к правительству стало всеобщим. В свою очередь, “верхи” во главе с царем все в большей степени стали подвергаться искушению управлять без Думы, которая из орудия упрочения царизма, как было надумано, стала орудием его дискредитации и разоблачения. Все это, естественно, сопровождалось обострением противоречий как между фракциями думского большинства, так и внутри их самих. Все это происходило на фоне нового мощного революционного подъема, достигшего к кануну войны, так сказать, баррикадного уровня, когда не только Ленин, большевики, но и либеральная оппозиция и сами “верхи” считали, что сложившаяся ситуация воспроизводит канун 1905 г. Таким образом, описанные факты и явления были прямым продолжением процессов, корни которых уходят назад на многие десятилетия. В то же время 1914–1917 годы представляют собой, безусловно, особый период в истории страны, смысл которого В. И. Ленин выразил в известных словах о том, что война явилась могучим ускорителем революции. Все указанные выше процессы, которые в “мирные” годы протекали сравнительно медленно, теперь под влиянием войны настолько убыстрили свой бег и вызвали такие колоссальные социально- экономические и политические перегрузки, что режим, уже сильно расшатанный до этого, не выдержал их и начал разрушаться. Как же выглядел механизм этого разрушения? Распад третьеиюньской системы выразился в выходе из строя ее основного механизма – двух большинств. На месте последних образовалось одно большинство, причем, и это было самым главным, в нем объединились на общей программе и перспективе элементы, которые в обычных, не экстремальных условиях были принципиально несовместимы, Политический смысл этого объединения состоял в том, что идея самодержавия как такового обанкротилась и в глазах его вчерашних приверженцев(8). Разложение царизма в его заключительной стадии ознаменовалось не только полной изоляцией от народа, но и отчужденностью от собственного класса, принявшей крайнюю форму самоизоляции династии от самых своих преданных сторонников. “Дело было, конечно, не в хлебе...– писал Шульгин, потрясенный легкостью, с какой пала трехсотлетняя монархия.– Это была последняя капля... Дело было в том, что во всем этом огромном городе нельзя было найти несколько сотен людей, которые сочувствовали власти”(9). Эта самоизоляция явилась следствием выхода из строя всех систем и механизмов самоконтроля, корреляции и ориентации правительственной машины. В истории самодержавия бывали моменты, когда “случайности рождения” исправлялись господствующим классом устранением непригодного по личным или другим качествам монарха. Инструментом такой корреляции было непосредственное царское окружение. В описываемое время это окружение выродилось в эгоистичную и трусливую камарилью, не способную ни к какому решительному действию даже в интересах собственного спасения. Двор, сановники, министры и пр., как показал ход событий в февральско-мартовские дни 1917 г., стали спасать себя за редким исключением так, как спасаются крысы на тонущем корабле. Выше отмечались гибкость и приспособляемость монархии как политического института. Но как государственная система абсолютизм представляет собой конструкцию, лишенную обратной связи, в результате чего в экстремальных условиях он теряет целиком или в значительной мере способность ориентации и реальной оценки обстановки. Со времен Сперанского в бюрократическом механизме царь являлся последней инстанцией, писал по этому поводу Нольде. “Император,– пояснял он, - был высшим чиновником, дальше которого некуда было посылать бумаги на подпись и который с воспитанной традицией аккуратностью и точностью давал свою подпись и венчал, таким образом, бюрократическую иерархию... Поскольку монарх был этим верховным чиновником” и тщательно выполнял свои иерархические функции на верхней ступени чиновничьей лестницы, русский государственный аппарат работал без больших перебоев и поломок”. Так шло дело в относительно спокойных, “нормальных” условиях. “Но время от времени император силой вещей оказывался вне твердых рамок текущей бюрократической работы и из верховного чиновника превращался в носителя собственной волн и собственной власти”(10). Так случилось и с Николаем II в годы войны. Обычно, и так было и при последнем самодержце, бюрократический механизм и “верховный чиновник” в силу многолетней и заданной иерархии более или менее приемлемо притирались друг к другу. Это относилось не только к политике в целом, но также к одной из самых главных функций царя – назначению министров. Несмотря на то что царь в принципе мог поступать по своему личному усмотрению, в действительности это имело место в сравнительно ограниченной степени, поскольку, будучи “верховным чиновником”, он зависел от бюрократии и вынужден был считаться с соображениями государственной целесообразности, бесперебойного отправления функций правительственной машины. Именно этой взаимосвязью и взаимозависимостью правящей бюрократии и носителя верховной власти обеспечивалась ориентация режима, его способность более или менее реально оценивать обстановку и принимать нужные в его интересах достаточно компетентные решения. Теперь эта связь оказалась разорванной. Таким образом, поломка и выход из строя системы ориентации самодержавного режима, как это ни парадоксально звучит, наступают тогда, когда монарх начинает принимать решения действительно самодержавно, единолично, независимо от своего официального правительства или в противовес ему. Поскольку же в действительности ни один правитель не может принимать решения, не руководствуясь чьими-то советами и подсказками, потому что сам по себе он совершенно слеп, порвав с официальным правительств ом, он становится непременно жертвой в лучшем варианте случайных, в худшем губительных с точки зрения интересов режима в целом и своих собственных влияний. Именно последнее произошло с Николаем II. Неизбежным итогом такого хода вещей явился развал официального правительства, выразившийся в форме утраты компетентности и способности контролировать ситуацию во всех областях народнохозяйственной и государственной жизни, распад всего административно- управленческого организма. Одним из наиболее тяжелых последствий разрыва самодержца с правящей бюрократией и своим классом явился психологический надлом господствующего класса и той же бюрократии, паралич воли. Господствующими классами овладело чувство бессилия и обреченности, бесполезности всяких усилий, направленных на исправление создавшегося положения(11). Конечный смысл этого всеобщего настроения безнадежности и тщеты состоял в том, что он стал огромным деморализующим фактором перед лицом надвигавшейся революции, облегчив тем самым ее победу. Совокупная помещичье-буржуазная контрреволюция, включая бюрократию, чиновничество, департамент полиции, генералов и офицеров, возглавлявших войска усмирения, не верила я возможность победы. Кампания подавления революции, казалось бы, спланированная во всех деталях, была при таком психологическом настрое проиграна еще до ее начала. Само собой понятно, и на это указывалось, что все отмеченные явления были итогом развития всего пути, проделанного абсолютизмом, а не только результатом последних трех лет его жизни. С точки зрения оценки всей истории царского самодержавия это трехлетие представляло собой последнюю стадию длительной и неизлечимой болезни – стадию быстрого и всестороннего распада и разрушения. В этом смысле оно является также как бы фокусной точкой, в которой сконцентрировались три века жизни романовской монархии. В этой связи естественно надуматься о том, каков был главный механизм этого разрушения. Существует ли этот механизм вообще, если иметь в виду антагонистическое государство, абсолютизм в особенности? На наш взгляд, такой механизм имеется, суть его состоит в нарушении взаимосвязи и взаимодействия положительной и отрицательной селекции в пользу последней. Классовое государство, как известно, играет двоякую роль. Оно, прежде всего, орудие власти господствующего класса. В то же время оно выполняет общественно необходимые функции в интересах всего общества, в противном случае его существование становится невозможным. Таким образом, государство представляет собой противоречивое единство, в котором одновременно борются две тенденции: прогрессивная и реакционная, узкоклассовая и общенациональная. История показывает, что, как правило, всякий новый социально-политический строй побеждал именно потому, что он, помимо обеспечения интересов господствующего класса, действовал внутри и вне страны, и в общегосударственных интересах. Институтом, который реально осуществляет оба эти начала, является правящая бюрократия, опирающаяся на разветвленный государственный аппарат, достаточно сложно взаимодействующая, функционально разделенная и соподчиненная историческая система власти. Совершенно очевидно, что эта система, особенно на прогрессивной стадии управляемого ею государства, кровно заинтересована и нуждается в привлечении в государственный аппарат на всех его уровнях лучшего человеческого материала, т. е. в положительной селекции. Достаточно вспомнить “птенцов гнезда Петрова”, Сперанского, Витте и т. д., чтобы понять, что в данном случае имеется в виду. В свою очередь, эта заинтересованность вызывает ответный отклик именно со стороны тех людей, которые хотят и могут принести пользу своему государству, служение которому они отождествляют со служением народу. Государство в этом смысле является могучей притягательной силой для всего самого способного и честолюбивого, что имеется в народе. В то же время бюрократия с первых же шагов начинает превращаться в оторванную от общества касту со своими собственными узкими корыстными интересами, противоречащими не только интересам общества в целом, но в какой-то мере и интересам господствующего класса. В конечном итоге она превращается в нечто особое и самостоятельное, разумеется в определенных пределах. Именно эта особенность и оторванность от народа служат источником отрицательной селекции, когда мотивами пополнения и воспроизведения становятся напотизм, закулисные влияния, узкие групповые интересы и т. д. Таким образом, в системе государственного управления сосуществуют и борются две противоположные тенденции: положительная и отрицательная селекция. Спрашивается: каковы итоги этой борьбы? В общей форме ответ можно свести к следующему. До тех пор пока существующий строй не утратил полностью своих прогрессивных черт, обе тенденции более или менее уравновешивают друг друга, во всяком случае, губительного перекоса в сторону отрицательной селекции не происходит. Картина резко меняется, когда режим исчерпывает себя. Поскольку он уже не может и не хочет двигаться вперед, компетентность и талант в управлении, столь необходимые раньше, становятся не только ненужными, но и противопоказанными, так как назначение указанных качеств как раз и состоит в том, чтобы обеспечивать поступательное развитие. Так возникает синдром некомпетентности, который увеличивается в размерах по принципу нарастающего ряской пруда. Каждый день площадь нарастания увеличивается вдвое. Поскольку исходная площадь нарастания мала, этот процесс долгое время кажется малоугрожающим. Достаточно сказать, что перед последним днем, когда пруд должен полностью нарасти, он еще наполовину чист. Именно поэтому так неожиданно ошеломляющим было для современников появление таких фигур во главе управления государством, как Хвостов, Штюрмер, Протопопов. В свете сказанного возникает вопрос: не была ли в таком случае гибель самодержавия всего-навсего таким актом саморазрушения, что для его ликвидации не требовалось никакой революции, ибо оно само себя ликвидировало? Вопрос этот тем более уместен, что у многих современников под впечатлением легкости победы революции сложилось именно такое впечатление. Вот наиболее характерное высказывание в этом плане: “Оно (самодержавие) отошло тихо, почти незаметно, без борьбы, не цепляясь за жизнь, даже не пытаясь сопротивляться смерти. Так умирают только очень старые, вконец истощенные организмы; они не больны, с ними ничего особенного не случилось, но организм износился, они уже жить неспособны”(12). Подобное утверждение неверно и как факт и как умозаключение. Уже указывалось, что царь цеплялся за власть до последнего и меньше всего хотел тихо и незаметно расстаться с жизнью самодержца(13). Но главное в данном случае – в том, что приведенное живописное сравнение царизма с дряхлым человеком, у которого иссякли все жизненные силы, служит доказательством, как это ни странно звучит на первый взгляд, совершенно обратного вывода – самодержавие не могло рухнуть само по себе, оно погибло только благодаря революции. Если вдуматься в смысл и значение всех приведенных в данной работе фактов, характеризующих царизм в годы войны, то поражаешься совсем обратному: какую он проявил невероятную живучесть и сопротивляемость. Казалось, в том состоянии, в котором он пребывал, и в тех обстоятельствах, в которых очутился, если мерить мерками обычного житейского здравого смысла, то должен был самопроизвольно погибнуть, по крайней мере, где-то в середине 1915 г. Однако ничего подобного не произошло. И в феврале 1917 г. он исчез не сам по себе, а в результате революции, длившейся неделю, и если бы ее не было, продолжал бы жить и дальше. Это не только конкретно-историческая, но и теоретическая истина, имеющая принципиальное значение, суть которой состоит в том, что любой политический режим, включая и абсолютизмы, обладает, если так можно выразиться, иммунитетом против саморазрушаемости. Объяснение этому явлению надо искать в том, что современное общество не может жить вне государства, если под этим разуметь жестко организованную, могущественную и всестороннюю управляющую обществом систему, без функционирования которой не может отправляться производственная и всякая иная деятельность общества, парализуется инфраструктура, возникает угроза наступления полного хаоса. В силу этого, как бы плохо машина управления ни работала, в ней заложены возможности частичной рецессии, обновления и укрепления ее отдельных звеньев вплоть до самых ответственных. Эта рецессия не снимает вопроса об исторической обреченности и изжитости режима, но она вполне может обеспечить какое-то продление его жизни. Поэтому вполне реальна ситуация, когда обреченный, казалось, строй на какое- то время снова выходит из кризиса или облегчает его. Скажем, если бы Февральская революция задержалась на несколько месяцев, а ее опередило успешное весеннее наступление, положение могло бы сильно измениться в пользу контрреволюции вообще, царизма в частности(14). На базе этой победы он вполне мог бы и до некоторой степени оздоровить себя, убрав, скажем, протопоповых и заменив их кривошеиными, особенно если бы одновременно вызрел и совершился дворцовый переворот, что также было вполне возможно. К этому надо добавить угрозу пропуска наиболее благоприятного момента для революционного натиска со стороны революционных сил, момента, представляющего собой сложный комплекс одновременного совпадения ряда объективных и субъективных факторов, крайне невыгодных для режима и, наоборот, максимально благоприятных для его противников. Наступление вновь такого момента, как показывает исторический опыт, может затянуться на неопределенно долгое время, что также дает возможность вчера еще дышавшему на ладан режиму перевести дух и перегруппировать силы. В этой связи необходимо остановиться на тезисе о достаточности, подлинности Февральской революции и якобы ненужности и даже антиреволюционности революции Октябрьской – тезисе, являвшемся главной и общей идеей кадетов, эсеров и меньшевиков, из которой они исходили во всех своих послеоктябрьских писаниях и оценках. Конечная суть их сводилась к весьма простой формуле: Февральская революция–добро, Октябрьская – зло. Но даже Маклаков, вечный оппонент Милюкова справа, считавший ненужной не только Октябрьскую, но и Февральскую революцию, воспринял эту идею весьма иронически, утверждая, конечно, по- своему, что Октябрьская революция была результатом не злой воли большевиков, а исторической закономерностью. “В стране, столь насыщенной застарелой злобой, социальной враждой, незабытыми старыми счетами мужика и помещика, народа и барина, в стране, политически и культурно отсталой, – писал он,– падение исторической власти, насильственное разрушение привычных государственных рамок и сдержек не могли не перевернуть общество до основания, не унести с собой всей старой России. Это было величайшей опасностью, но революционеры ее не боялись”. И далее: “Без Октября дело пошло бы иначе, шаблонным порядком; связь с прошлым не была бы вовсе порвана. Несмотря на революцию, прошлое, хотя не сразу, пробилось бы даже через четыреххвостку. Не будь Октября, Февраль мог остаться сотрясением на поверхности”. В конечном итоге он вызвал бы и подготовил реакцию. “И если бы эта реакция восстановила порядок, то преходящие беды Февраля скоро забылись бы, потомки могли бы действительно смотреть на Февраль как на начало лучшей эпохи. В России остались бы прежние классы, остался бы прежний социальный строй, могла бы быть парламентарная монархия или республика”(15). Приведенное высказывание является блестящим подтверждением правильности курса большевистской партии на социалистическую революцию, ибо, как они утверждали, и с чем позже согласился Маклаков, остановиться на буржуазно-демократическом этапе революции означало на деле вернуться со временам к прежнему, к реставрации монархии, пусть чуточку подновленной, но неизменной в своей главной сути. Без Октября был бы ликвидирован и Февраль – вот ответ на вопрос, какая из двух революций была “настоящей”. Маклаков великолепно подтверждает также исключительную важность мысли В. И. Ленина о том, что революция, если она действительно хочет победить, должна зайти несколько дальше тех задач, которые она призвана осуществить. Сравнительная легкость, с какой был свергнут царизм, в свете всего сказанного говорит не о саморазрушении, не о восьмидневном “чуде”, как утверждал Милюков, а о том, что В. И. Ленин характеризовал как отличную отрепетированность революции, достигнутую в ходе революции 1905–1907 гг. и последующих классовых битв. “Эта восьмидневная революция, – писал он,- была, если позволительно так метафорически выразиться, “разыграна” точно после десятка главных и второстепенных репетиций; “актеры” знали друг друга, свои роли, места, свою обстановку вдоль и поперек, насквозь, до всякого сколько- нибудь значительного оттенка политических направлений и приемов действия”(16). Да, “актеры” действительно очень хорошо знали друг друга. Контрреволюция отдавала себе полный отчет, какая революция ожидает страну, если она проиграет, и контрреволюция боролась до последнего, даже призрачного шанса. Но проиграла. Революция, народ оказались сильнее. История рано или поздно вершит свой приговор. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 1. Милюков П. Н. Воспоминания. Т. 2. С. 337. 2. Нольде Б. Э. В. Д. Набоков в 1917 г. // Архив русской революции. Берлин, 1922. Т. 7. с. 10. 3. Маклаков В. Некоторые дополнения к воспоминаниям Пуришкевича и кн. Юсупова об убийстве Распутина // Современные записки. Париж, 1928. Т. 34. С. 279, 280. 4. Вишняк М. Падение русского абсолютизма // Современные записки. Париж, 1924. Т. 18. С. 250, 263. 5. Ленин В. И. Полное собрание сочинений Т. 20. С. 359. 6. Ленин В. И. Полное собрание сочинений Т. 22. С. 131, 132. 7. Аврех А. Я. Раскол фракции октябристов в IV Думе // История СССР. 1978. № 4. С. 115-127. 8. Аврех А. Я. “Распад третьеиюньской системы” (Москва, 1984). 9. Шульгин В. В. Дни. С. 103. 10. Нольде Б. Э. Из истории русской катастрофы // Современные записки. Париж, 1927. Т. 30. С. 542. 11. Спиридович А. И. Великая война и Февральская революция, 1914–1917 гг. Нью-Йорк, 1960. Кн. 3. С. 98-99. 12. Врангель Н. Воспоминания: (От крепостного права до большевиков). Берлин, 1924. С. 227. 13. Вырубова-Танеева А. Царская семья во время революции // Февральская революция: Мемуары / Составитель С. А. Алексеев. М.; Л., 1925. С. 396. 14. Шульгин В. В. Дни. С. 104. 15. Ленин В. И. Полное собрание сочинений Т. 31. С. 12. 16. Ленин В. И. Полное собрание сочинений Т. 31. С. 12. Долгачев И. Н. Февральская Буржуазно-Демократическая революция. — М.: © ® DIN Print, 1995 Реферат по истории России на тему “Февральская Буржуазно-Демократическая революция” для выпускного экзамена (11Б класс, ДСШ №3, г. Домодедово 1995 г.). Издание иллюстрировано фотографиями. Февральская Буржуазно-Демократическая революция Иван Николаевич Долгачев Февральская Буржуазно-Демократическая революция Рецензент Н. В. Плахова Подписано в печать 19.05.95. Формат А4 (210x297mm). Бумага плотная. Печать лазерная (оптическое разрешение 300 точек на дюйм). Гарнитура Times New Roman. При подготовке реферата использовались следующие программные и аппаратные средства: сканирование фотографий и текстов — HP ScanJet IIcx; печать — HP LaserJet IVL; операционная система — MS-Windows 3.11 For Work Groups; система оптического распознавания текста — Fine Reader 1.3; обработка фотографий — Corel PhotoPaint 4; титульный лист — Corel Draw 4; верстка текста — MS-Word 6.0; проверка орфографии — Пропись 3.2. |
|